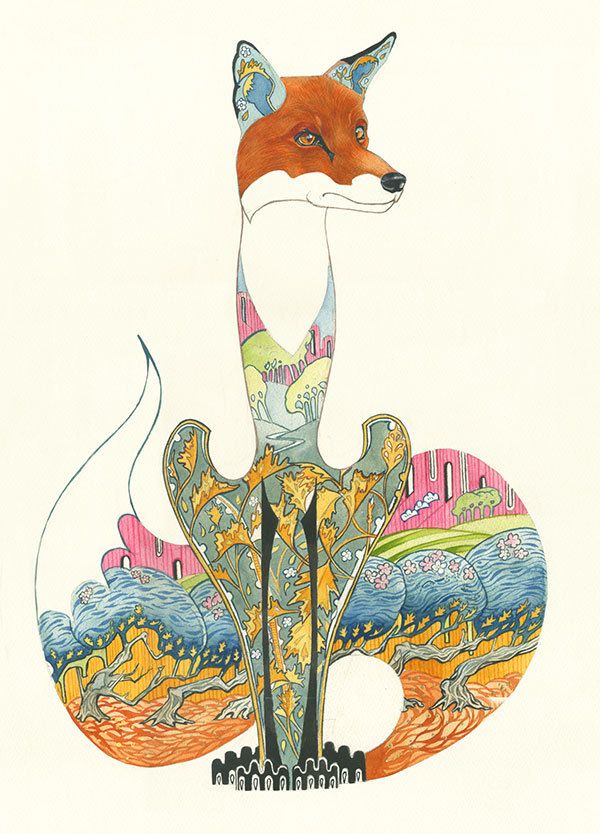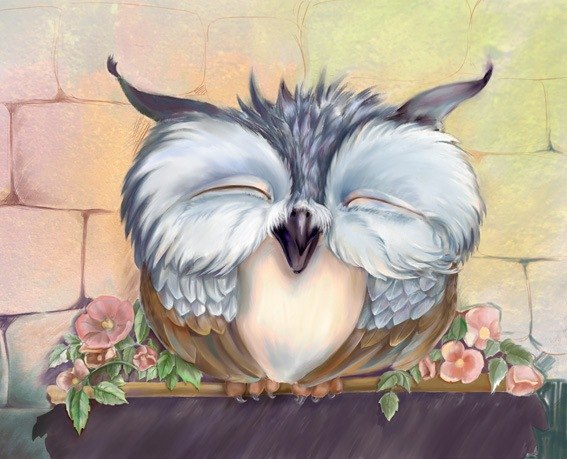
суббота, 07 ноября 2015
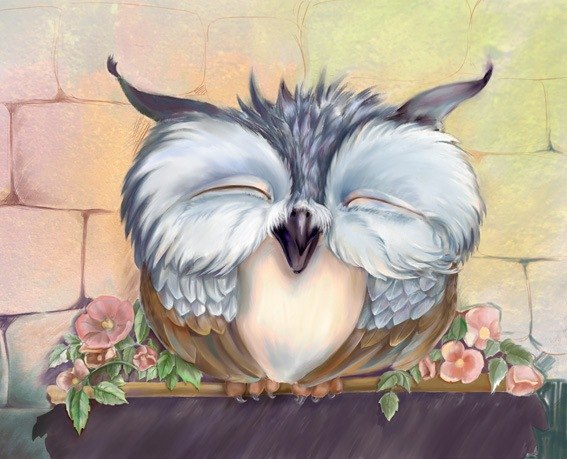
Артюр Рембо в некотором смысле котенок по имени Гав: он тоже знает, что бояться слаще всего не в комнате, а на чердаке.
Исторический роман - штука престранная. На каком языке его писать - тогдашнем или нынешнем? Какими заботами заботить героев? Что для них важно - то, что для тогдашних людей или что для нас? Насколько вообще возможно душевно и стилистически полностью перевоплотиться в человека того времени? Не знаю. Но практически уверена, что полностью - не нужно.
Возникает вопрос - а насколько нужно? Где граница?
ИМХО, в любом историческом произведении - романе, фильме, спектакле, картине - всегда будет присутствовать некоторый антиисторизм. Иногда - наивный, иногда осознанный, нередко нарочитый, да еще с подвыподвертом. А вот как он будет восприниматься - дело иное. Зависит от очень и очень многих факторов. Один из них - уровень претензий.
Облачить Гамлета в джинсы и дать ему гитару - это, простите, вовсе не Любимов придумал. Средневековые и ренессансные живописцы, ничтоже сумняшеся, рядили своих мадонн и святых по последней местной моде, и ничего. Никто против не был. Да и сейчас, как я понимаю, особых возражений не имеется. Однако сменилось время, сменились вкусы - и претензии - и костюмы стали неумолимо "историчнеть" (ну не могу я это другим словом выразить!) Так что Любимов просто сделал то, что делали и до него, только нарочно и нарочито - а вообще-то за ним стояла очень, очень давняя живописная традиция.
Однако не всякое лыко в строку. Я когда-то пыталась читать Прусовского "Фараона". Ну - классика же. Шло тяжеловато, но шло. И вот я наткнулась на диалог (цитирую по памяти):
"- Ты кто?
- Я - голос угнетенного египетского народа!"
На этом меня из книги вынесло двуручным дисбиливом, и не просто вынесло, а с хохотом. Такой уровень антиисторизма при претензии как раз на историзм я просто перенести не смогла. Тем и закончилась мое знакомство с "Фараоном". Мне очень жаль - но ничего не могу с собой поделать. Кстати, юного казуиста из этой книги вынесло ровно на той же строчке и по той же причине. Наследственность, наверное.
К слову сказать, "Куклу" я очень любила и до сих пор люблю. А с "Фараоном" - боюсь, это навсегда...
О намеренных искажениях исторических фактов, само собой, здесь речь не идет.
Возникает вопрос - а насколько нужно? Где граница?
ИМХО, в любом историческом произведении - романе, фильме, спектакле, картине - всегда будет присутствовать некоторый антиисторизм. Иногда - наивный, иногда осознанный, нередко нарочитый, да еще с подвыподвертом. А вот как он будет восприниматься - дело иное. Зависит от очень и очень многих факторов. Один из них - уровень претензий.
Облачить Гамлета в джинсы и дать ему гитару - это, простите, вовсе не Любимов придумал. Средневековые и ренессансные живописцы, ничтоже сумняшеся, рядили своих мадонн и святых по последней местной моде, и ничего. Никто против не был. Да и сейчас, как я понимаю, особых возражений не имеется. Однако сменилось время, сменились вкусы - и претензии - и костюмы стали неумолимо "историчнеть" (ну не могу я это другим словом выразить!) Так что Любимов просто сделал то, что делали и до него, только нарочно и нарочито - а вообще-то за ним стояла очень, очень давняя живописная традиция.
Однако не всякое лыко в строку. Я когда-то пыталась читать Прусовского "Фараона". Ну - классика же. Шло тяжеловато, но шло. И вот я наткнулась на диалог (цитирую по памяти):
"- Ты кто?
- Я - голос угнетенного египетского народа!"
На этом меня из книги вынесло двуручным дисбиливом, и не просто вынесло, а с хохотом. Такой уровень антиисторизма при претензии как раз на историзм я просто перенести не смогла. Тем и закончилась мое знакомство с "Фараоном". Мне очень жаль - но ничего не могу с собой поделать. Кстати, юного казуиста из этой книги вынесло ровно на той же строчке и по той же причине. Наследственность, наверное.
К слову сказать, "Куклу" я очень любила и до сих пор люблю. А с "Фараоном" - боюсь, это навсегда...
О намеренных искажениях исторических фактов, само собой, здесь речь не идет.
вторник, 03 ноября 2015

понедельник, 02 ноября 2015

воскресенье, 01 ноября 2015

пятница, 30 октября 2015
Треп ночной обычный. Беседуем с юным казуистом, он же домашний филолог.
Ю. К. : По крайней мере одна из причин невозможности этической утопии в реале: кто сказал, что этическая система, подобно другим системам, не подчиняется теореме Гёделя?
ТАК я этические системы еще не пыталась рассматривать.
Получила пищу для размышлений. Ушла размышлять.
Ю. К. : По крайней мере одна из причин невозможности этической утопии в реале: кто сказал, что этическая система, подобно другим системам, не подчиняется теореме Гёделя?
ТАК я этические системы еще не пыталась рассматривать.
Получила пищу для размышлений. Ушла размышлять.
понедельник, 26 октября 2015

С чем я его и нас поздравляю!


воскресенье, 25 октября 2015

суббота, 24 октября 2015

Не только из песни, но и из словаря слов не выкинешь. Есть в русском языке такое слово - жид. На данный момент давно уже однозначно бранное. Между тем, когда-то оно было нейтральным. В некоторых языках оно нейтрально до сих пор. Помнится, мама мне рассказывала, какой шок она в Польше отхватила возле афиши, радостнро сообщавшей о премьере в жидовском театре.
К началу двадцатого века слово это однозначно ругательное. А вот по ходу предыдущего, девятнадцатого столетия... ну возьмем хотя бы вынесенную в заголовок этого поста строчку. Это вообще-то Лермонтов. О котором можно сказать многое. Но вот сказать, что он был постмодернистом, категорически нельзя. И постмодернистский изыск по части сочетания высокого стиля с бранным приписать ему невозможно. Стихотворение лирическое, а если учесть финал, то и трагическое. И слово "жидовка" для Лермонтова и его современников однозначно нейтральное - иначе оно просто не могло бы сочетаться с высокопарным "младая", да и вообще находиться в этом стихотворении.
И вот мне жутко интересно - когда и почему слово "жид" стало однозначно (и, полагаю, уже бесповоротно) бранным? Где и когда обозначился водораздел между "жидовкой младой" и "жидовской мордой"?
Дорогие филологи и историки - а что вы скажете?
К началу двадцатого века слово это однозначно ругательное. А вот по ходу предыдущего, девятнадцатого столетия... ну возьмем хотя бы вынесенную в заголовок этого поста строчку. Это вообще-то Лермонтов. О котором можно сказать многое. Но вот сказать, что он был постмодернистом, категорически нельзя. И постмодернистский изыск по части сочетания высокого стиля с бранным приписать ему невозможно. Стихотворение лирическое, а если учесть финал, то и трагическое. И слово "жидовка" для Лермонтова и его современников однозначно нейтральное - иначе оно просто не могло бы сочетаться с высокопарным "младая", да и вообще находиться в этом стихотворении.
И вот мне жутко интересно - когда и почему слово "жид" стало однозначно (и, полагаю, уже бесповоротно) бранным? Где и когда обозначился водораздел между "жидовкой младой" и "жидовской мордой"?
Дорогие филологи и историки - а что вы скажете?
пятница, 23 октября 2015